Астраханские предприниматели стали сбиваться в группы, чтобы обезопасить свои владения. Угроза пришла откуда не ждали: покупатели стали злоупотреблять своими правами. Предприниматели закрываются, а напоследок предупреждают коллег о тех, с кем не нужно работать.
Понятие «потребительский экстремизм» в России существует 30 лет . Это ситуация, когда покупатель намеренно портит товар, затягивает сроки или выискивает мелкие недостатки, чтобы взыскать с предпринимателя неустойку, компенсацию и моральный ущерб.
Мебели нет, но она плохая

«Эта история началась в 2012 году – рассказывает бывший руководитель магазина кухонной мебели Олег Булатов. – Мы продали и поставили кухню клиентке по фамилии М. Сначала возникла небольшая проблема: один из шкафов, из-за заводского брака, оказался слегка потертым. Мы все заменили, извинились. Подписали акт приема мебели и покупатель осталась довольна.
Спустя семь месяцев она обратилась в магазин с претензией. Написала, что проблемы с мебелью и пропала. На звонки не отвечала, письма игнорировала.
Закон без тонировки. Как кошмарят бизнес в России?
Затем мне пришла повестка в суд. Покупатель подала иск на то, что мебель плохого качества и потребовала ее заменить. Советский районный суд ей отказал: она не пустила сотрудников экспертной службы, доказательств, что мебель некачественная, не было.
Следом апелляция. В ходе судебных разбирательств, покупатель меняет исковые требования. Говорит: покажите мне акт приема-передачи мебели, если не покажете, то и кухни у меня нет.
У нас этот документ через три года был уничтожен. Все, как положено: собрана группа, проведена опись документов – мы все это предоставили в суд. Акт приема-передачи не влияет на долгосрочную финансовую отчетность, его не нужно хранить много лет. Но суд счел, что этот аргумент имеет место быть и теперь получается, что кухня, которая больше трех лет стоит в доме покупательницы – не существует.
Суд определил неустойку за то, что мебели, якобы, нет – почти 200 тысяч рублей. Штраф за то, что мебель плохая – 100 тысяч рублей. И моральный ущерб 10 тысяч на двоих. Сумма оказалась для меня неподъемной, пришлось закрыть ИП. Пол жизни я работал без проблем и нареканий, но сейчас понимаю, что один такой иск может закрыть целое предприятие».
Хочу диван и компенсацию
Экс-предприниматель Андрей Колтунов тоже закрылся после знакомства с М. Он занимался продажей домашней мебели, и в его магазине покупатель присмотрела диван.

«Заказ оформлен, деньги получены, ждем мебель. Когда диван привезли, она углядела какую-то «цапку» на задней панели, которая ставится к стене – делится бывший бизнесмен Андрей Колтунов. – Мы забрали мебель и пригласили ее к нам в салон, чтобы посмотреть точно такой же диван. Но и тот ей не угодил.
Как кошмарят бизнес в России!
Я предложил ей вернуть деньги, она наотрез отказалась и сказала, что будет ждать доставку другого дивана, такого же. Но такой же предоставить я ей не смогу: фабрика перестала работать с этой тканью. Письмо с завода я ей показал. Но она уперлась. Говорит: деньги заплатила за диван такого цвета, так что хоть разбейся, но достань.
И деньги не берет обратно.
Затем был суд. Суть иска в том, я не предоставляю ей товар «надлежащего качества» в установленные сроки. А значит, должен вернуть деньги за диван в двойном размере (половина ушла в казну государства) и неустойку примерно 15 тысяч рублей. Это решил областной суд после апелляции, а первую инстанцию она проиграла.
Мои аргументы о том, что покупатель была в курсе невозможности исполнения договорного обязательства, никто не принял. После этого я не захотел продолжать работать. Предприниматели прошли огонь и воду, а воевать со своими покупателями не хочется. Мне пришлось закрыться».
На долгую память
Рынок ритуальных услуг и изготовления памятников – кладезь для потребительского экстремизма. Плачущих родственников усопшего, как правило, не заставляют подписывать дополнительные бумаги. Специфика работы подразумевает человечность. На этом попался предприниматель, который пожелал остаться анонимным. Двум плачущим женщинам, у которых вандалы стащили памятник с могилы, пошли на встречу по всем вопросам.

«Они (М. с дочерью) заказали памятник. Женщины тяжело переносили утрату, и мы старались выполнить любое пожелание – делится своей историей бизнесмен. — Они внесли 25 тысяч предоплаты, товар пришел, но им не понравился цвет. С нашей стороны никаких нареканий не было, товар идеального качества. Мы отложили оплаченную стелу, заказали другую. Снова мимо. Третий, четвертый.
То их не устраивал цвет, то форма, то еще что-то. Последний памятник мы уже взяли в Астрахани под реализацию, сумели хоть как-то сократить наши расходы.
Когда мы поняли, что их не интересует камень, было поздно. Мы же шли навстречу покупателю, при каждом перезаказе не подписывали дополнительных соглашений о переносе даты. В суде нам наглядно показали последствия: больше 100 тысяч неустойка за «затягивание сроков». Несмотря на то, что товар был предоставлен вовремя и в идеальном состоянии. Сейчас М. пытается подать на пересмотр суммы, хочет 200 тысяч.
Так как наша сфера довольно узкая, знаю, что еще два предпринимателя по ритуальным услугам «попали» на эту женщину. Но у них процесс только начинается».
Теребите ли, потребители?
Другие предприниматели, которые пожелали не называть своих имен, заверили нас, что почти каждый судья Астраханской области знаком с постоянным истцом. Только из открытых данных районных и областного судов видно, что за последние шесть месяцев на счету М. шесть судебных процессов. О данных, которые не попали в публикации судебных учреждений, можно только догадываться.
Бизнесмены поговаривают, что их – около 30. Якобы, потребитель давит на судей жалобами, забрасывает обвинительными письмами судебных приставов, судилась со всевозможными бюджетными учреждениями, вплоть до Правительства РФ. Заработок, говорят, такой.
Адвокаты отмечают, что потребительские иски – самые проигрышные для предпринимателей дела. За последние три года их количество практически удвоилось. В федеральном законе четко прописаны права покупателей, но про права предпринимателей нет практически ни слова. Чаще всего «под удар» попадают страховые компании с намеренным браком имущества, затем производители и продавцы мебели, дверей, бытовой техники и рынок ритуальных услуг.
С 1 октября в России должна вступить в силу глобальная судебная реформа. Она подразумевает сплошную кассацию и отдельные суды третьей и четвертой инстанции. Это может помочь предпринимателям доказать свою невиновность.
Сейчас астраханским бизнесменам приходится работать в условиях повышенного внимания. Стабильно, хотя бы раз в месяц, коллеги по цеху предупреждают друг друга о тех покупателях, с которыми могут возникнуть подобные проблемы. Делятся фамилиями, именами и запросами. Куда уж тут думать о конкуренции, когда на кону собственный бизнес, честь и достоинство.
Источник: punkt-a.info
«Бизнес — занятие непрестижное» Продолжает ли государство кошмарить предпринимателей
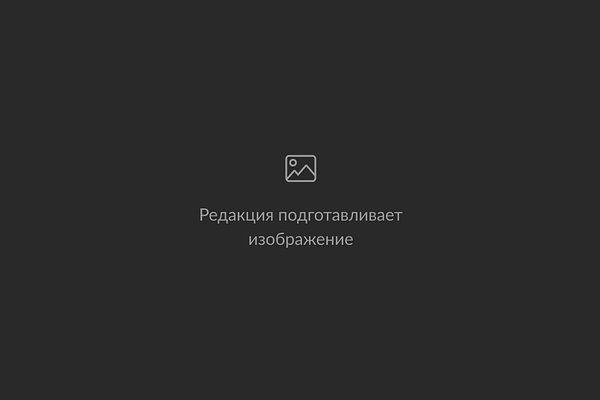
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал увеличить долю малого бизнеса в экономике до 50 процентов. «Лента.ру» побеседовала со старшим научным сотрудником РАНХиГС, членом Экспертного совета при правительстве России Вадимом Новиковым о том, почему эту задачу пока невозможно выполнить.
«Лента.ру»: В недавнем письме Федеральной налоговой службы есть просьба к инспекторам правильно обращаться с бизнесменами, не придираться к формальным неточностям, а вплотную заниматься законностью операций. Это хорошая новость для бизнеса или плохая?
Вадим Новиков: Это хорошая идея — как для органов власти, так и для самих предпринимателей. Я смотрю на это письмо как на реализацию идущей сейчас контрольно-надзорной реформы, так называемого риск-ориентированного подхода. Главное состоит в том, что чем выше опасность от предполагаемого действия, тем более пристальным должен быть контроль за ним. Оформление документов — второстепенный вопрос по сравнению с тем, чем занимается бизнес.
Материалы по теме:

«Главное — дать бизнесу работать» Врио губернатора Калининградской области о туризме, девальвации и санкциях
27 февраля 2017
Недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал мифом утверждение о том, что в России невелика доля малого бизнеса. Он сказал, что бизнес есть, просто он нелегальный и находится в тени. Согласны ли вы с этим? Если это так, какова реальная доля предпринимателей в экономике?
Все-таки доля предпринимателей в российской экономике не так уж и велика. Ее можно установить не только статистическим средствами, да и статистики не так уж наивны. Есть, например, опросные данные. Много лет выпускается международный бюллетень по этой теме — Global Enterpreneurship Monitor. Смотрят распространение предпринимательства в самых разных странах мира.
Первое, что бросается в глаза — в России предпринимательство не так развито, как в среднестатистических странах. Лидируют по приросту новых предприятий страны типа Буркина-Фасо, Белиза, Эквадора.
В мире давно действует тенденция к централизации, бизнес становится более крупным. Не бывает же малого сталелитейного бизнеса. Во многих сферах малое предпринимательство попросту невозможно. В типичном своем виде малый бизнес — это самозанятость.
Россия с ее слабым малым бизнесом по приросту предприятий находится в ряду относительно развитых стран, к которым по ВВП мы, быть может, и не принадлежим. Как в плане демографии (с маленькой рождаемостью), так и в плане демографии организаций, со слабым распространением вновь созданных малых бизнесов.
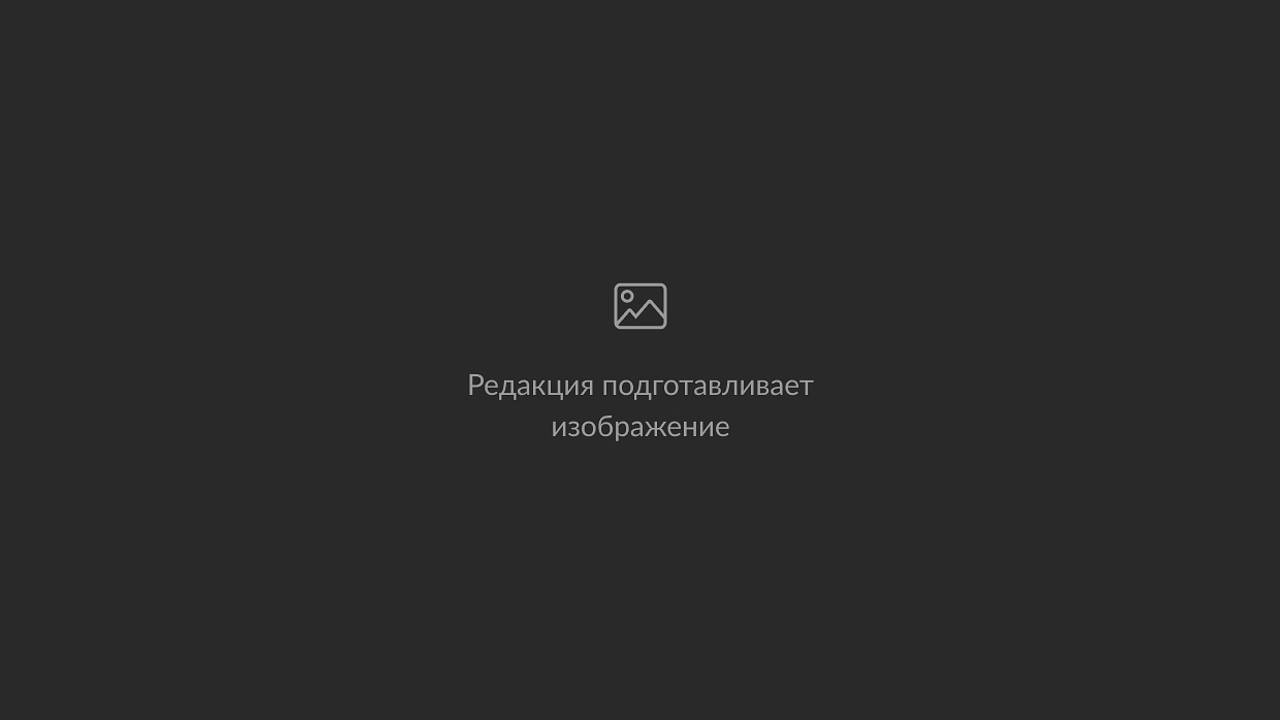
И все же какова эта доля в экономике? Несколько лет назад мне попадались данные о том, что доля малого бизнеса в экономике Италии составляет 65 процентов. Мы ленивы или нам это не нравится? Это смешно — деньги нравятся всем.
Деньги нравятся всем, но занятия делятся на престижные и непрестижные. Предприниматель зарабатывает много, а занятие — непрестижное. Несколько лет назад ВЦИОМ проводил опрос о престиже профессий. Рейтинг начинается с таких профессий, как юрист, адвокат и прокурор. А предприниматель при всех своих высоких доходах стоит в иерархии общественных предпочтений существенно ниже, где-то рядом со средним чиновником.
Председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая перед Госдумой, поставил цель довести долю малого и среднего бизнеса до 50 процентов. Если это реально, что для этого нужно сделать?
Что касается распространения малого бизнеса вообще, тут требуются более сложные механизмы. Эти меры должны быть неспецифическими и вряд ли касающимися собственно малого предпринимательства. Одна из причин, по которой крупный бизнес более жизнеспособен, — это не какая-то классическая экономия производства на издержках.
Просто крупный бизнес более защищен в любых столкновениях с государством. Грубо говоря, принадлежность к большому холдингу для отдельного цеха — крыша, прикрытие. Если бы эти вызванные общением с государством издержки уменьшились, гораздо больше бизнесов стали бы жизнеспособными. Но это работа, направленная на улучшение инвестиционного климата в целом.
У вас есть ощущение, что за словами лидеров вроде «перестаньте кошмарить бизнес», «давайте увеличим долю» и так далее стоят какие-то действия, которые реально способствуют достижению этих целей?
Каких-то масштабных действий, меняющих курс системы, благоприятность ведения бизнеса для малых предприятий, пока даже не заявлено. Нужно ожидать, что подобного рода поручения будут исполняться так, как они обычно исполняются чиновниками. То есть с минимальными затратами, средствами Росстата. Самый простой рецепт для чиновников в данном случае — просто переопределить, что такое малый бизнес.
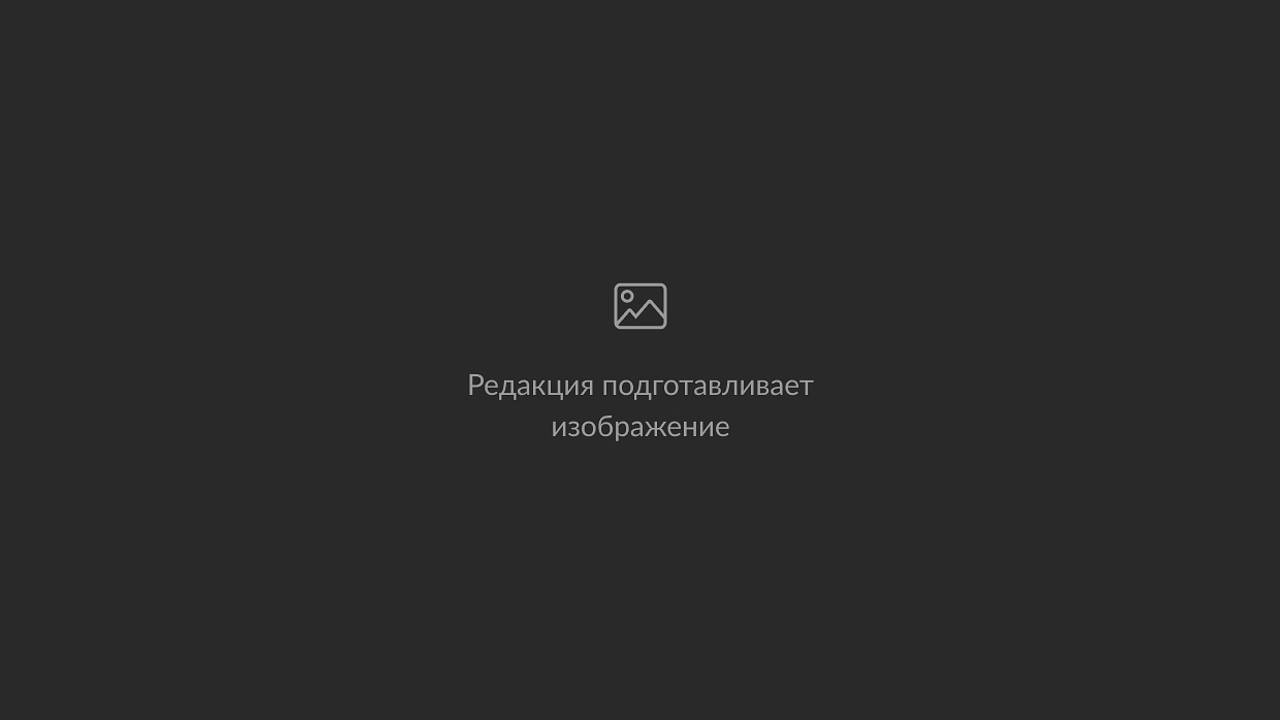
Есть еще одно ведомство, которое теоретически должно быть на стороне среднего и малого бизнеса — это Федеральная антимонопольная служба. Она вроде как за здравый смысл, справедливость. Насколько этот орган соответствует своим задачам?
По замыслу, ФАС должна иметь дело с крупными предпринимателями — условными Рокфеллерами. Но в действительности Рокфеллеров очень мало, а основная масса дел — до 40 процентов — направлены против малого и среднего бизнеса.
Монополистом, по мнению ФАС, может оказаться даже индивидуальный предприниматель, что часто и случается. Наиболее известный пример — «батутное дело» из Горно-Алтайска. На площади Ленина в Горно-Алтайске появляется ИП Евгений, ставит свой батут, на котором прыгают дети. Цену за попрыгать он назначает на уровне 50 рублей. Просто, не очень много, одна купюра, передал и все.
Через некоторое время на площадь приходит еще один ИП Иван. Он ставит ту же цену, но конкуренция срабатывает. Теперь Евгений вместо 15 минут разрешает прыгать за этот же тариф сколько угодно. Его примеру следует и конкурент. Через некоторое время прибывает ФАС и спрашивает у бизнесменов — а почему у вас цены одинаковые?
Иван и Евгений объясниться не смогли, и чиновники записывают, что это сговор. Возбуждается дело, начинаются суды. И предприниматели эти суды проигрывают.
Или другая история. Мелкий предприниматель работает с крупными торговыми сетями, ФАС возбуждает дело по дискриминации одной из сетей — при том, что потерпевший этого не признает.
Причина тут простая. Малый бизнес обеспечивает проверяющим органам массу дел — ты не можешь держать большой штат, если у тебя мало дел. На этом проверяющий орган легко заработает свою палку. Там ведь, как и в полиции, палочная система — она распространена по всем контрольным органам.
Кроме того, у большого бизнеса гораздо больше возможностей для защиты — адвокаты, внимание прессы и так далее. Малый предприниматель — просто легкая жертва.
А я вспомнил, как индивидуальный предприниматель вывел Израиль на второе место в мире по экспорту черной икры. Ему рукоплескала вся страна. У нас так не получается?
Здесь мы видим как проявляет себя плохая система мотивации. Она втягивает чиновников в соревнование, в котором попросту не нужно участвовать.
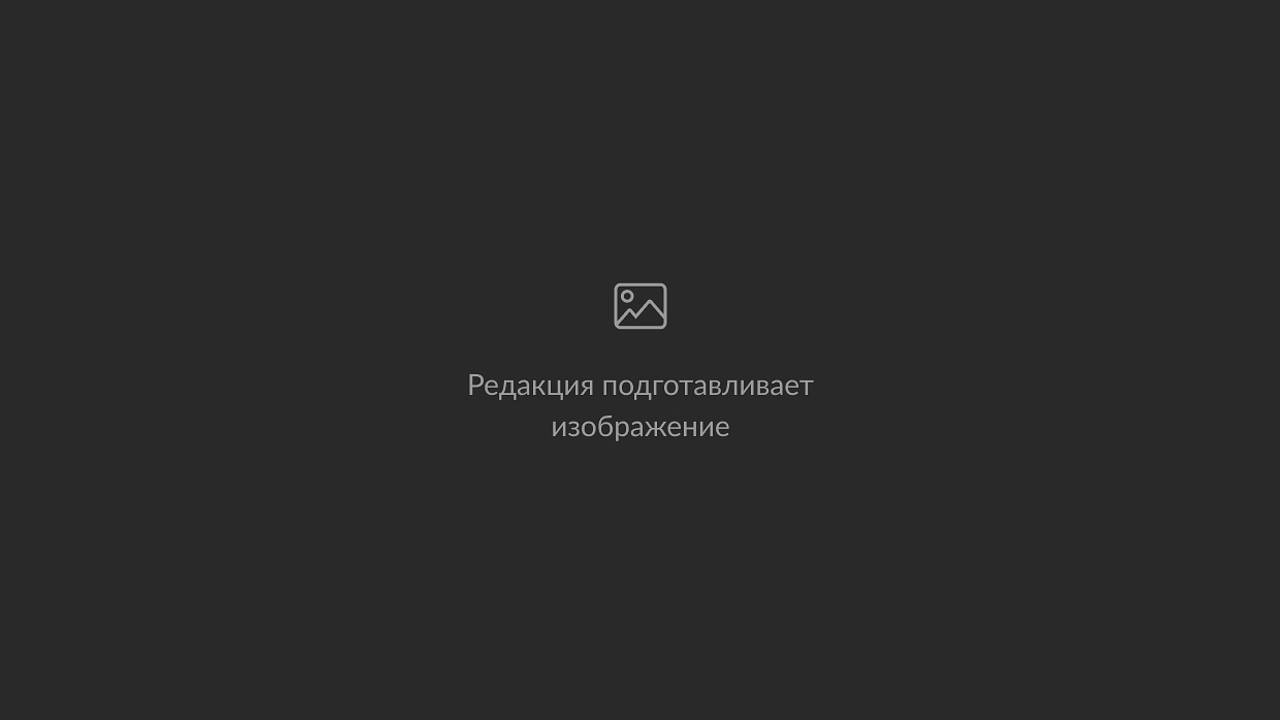
Есть две точки зрения на развитие в обществах с большим количеством проблем. Есть белорусский путь, где предпринимателей осчастливливают дополнительными нагрузками. Хочешь работать — работай, но ты еще вот тут построй или там почисть. В этом тоже есть логика, которая позволяет президенту Белоруссии справляться с каким-то количеством проблем.
А есть Гонконг и Тайвань, лидирующие по количеству экономических свобод. К чему стремиться в нашей ситуации?
Ну, во-первых, нужно обозначить, в чем состоит наша ситуация. У нас свобод маловато. В тех же самых рейтингах при 160 участниках Россия находится на 100 месте. С точки зрения среднего человека, потребителя, подход Гонконга и Сингапура лучше. Почему? Потому что ему не приходится покупать что-то в нагрузку. У потребителя же должен быть выбор.
Например, приобретая авиабилет, он может выбирать, платить ли ему за выбор места, дополнительную страховку, завтрак. В несвободной стране с системой социальной ответственности, с «партийными заданиями» для бизнеса, ограничивается сам потребитель. Он вынужден платить. Возможно, он бы и в классической свободной системе заплатил, но там у него совершенно другая степень контроля.
В нормальной ситуации есть общественный сектор экономики, в нем тратятся какие-то деньги, и, по крайней мере, известно, как они тратятся. Любой человек может открыть бюджет, найти строчку, эти строчки обсудят парламентарии, пресса, сами люди. А система социальной ответственности — это, по большому счету, барщина.
Материалы по теме:

«Наша экономика подсела на мигрантов» Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказывает, кто повысит доходы россиян
2 февраля 2017
Даже если предпринимателя обременить, обложить явным налогом — это будет лучше. Потому что это видимо для всех, и мы можем обсуждать, как этот налог потратить. А тут есть множество решений чиновников, которые попросту не видны и никем не контролируются.
Даже в деловых СМИ доминирует парадная повестка дня. Что будет обсуждаться на большой конференции по проблемам с правоприменением антимонопольного законодательства? Те дела, с которыми сталкиваются юристы, работающие в основном на крупные предприятия. Там будут обсуждаться дела, которыми хочет похвастаться руководство ФАС.
Случаи из Горно-Алтайска не имеют шансов дойти до такого обсуждения. То же самое происходит на страницах газет. Крупные корпорации могут говорить сами за себя. А малый бизнесмен никогда не станет героем событий, у него не спросят комментарий, даже если дело касается его самого. Для них существует гильдия, за него может говорить «Опора России».
Это означает абстрагирование и появление посредников, у которых могут быть свои корпоративные интересы. Понятно, что организация находится в Москве, и им так или иначе важно поддерживать отношения со многими ведомствами. Когда малый предприниматель не рассказывает сам о себе, а вместо него говорят «Опора России» или эксперт Вадим Новиков, эта ситуация не очень благоприятная. Для начала малому бизнесу нужны даже не какие-то меры, а просто внимание.
Источник: lenta.ru
Госконтроль сдал позиции в охране труда

Работодатели требуют “не кошмарить бизнес” проверками, и законы о защите их прав год от года все толще. Госконтроль же делается все менее действенным. Из-за “регуляторной гильотины” правила по охране труда переписывают на скорую руку, и они создают прямую угрозу жизни и здоровью работников. А в ряде отраслей — даже столь опасных, как горное дело, — таких правил на федеральном уровне вовсе нет. Из-за этого страдают и позиции профсоюзов.
НЕОПТИМИСТИЧНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
При содействии бизнеса и работодателей 26 декабря 2008 года был принят закон “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” № 294-ФЗ. Вольно или невольно из его названия и содержания усматривается, что должностные лица органов госконтроля (надзора), действующие согласно законодательству и в интересах общества, не очень хорошие люди. Они-де мздоимцы, а весь бизнес — белый и пушистый, все соблюдает и выполняет. Подчеркнем, недобросовестные люди есть везде. Но бизнес оказался проворнее госструктур, и лозунг о том, что его не надо кошмарить, уже несколько лет остается в моде.
За годы существования этого закона в него было внесено 78 (!) поправок, основная часть которых направлена на дальнейшую защиту предпринимательского сообщества и ограничение прав органов государственного надзора. Такая ситуация не могла не сказаться на профсоюзном контроле. Профсоюзам тоже пришлось учитывать новые реалии.
Общеизвестно, что аппетит приходит во время еды. Так и бизнес желает еще больше ограничить права и возможности органов госконтроля (надзора). С этой целью 31 июля 2020 года был принят закон “Об обязательных требованиях в РФ” № 247-ФЗ. Его основные положения вступили в силу 1 ноября 2020 года. Он применяется в том числе вместе с законом № 294-ФЗ, требования которого действуют до 2024 года.
Отметим, что закон № 247-ФЗ — многостраничный документ, сложный для восприятия. Он предусматривает новые концептуальные и оптимизированные подходы к организации госконтроля (надзора). Его задача — определить правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах РФ. Кроме того он определяет полномочия различных структур в данном вопросе, а также порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования.
В нашей стране слово “оптимизация” традиционно ассоциируется с сокращением всего и вся. Законы, указанные выше, сокращают количество проверок, их продолжительность и число требований, подлежащих обязательному исполнению. Это затрагивает сферу трудовых отношений, в частности охрану труда. Сегодня функции государства в сфере обязательного регулирования неуклонно урезаются. Ситуацию можно представить в виде весов, на которых свобода действий работодателя стремительно перевешивает его уменьшающийся груз ответственности.
Это отчетливо видно на примере расследования несчастных случаев с работниками. Во многих таких случаях работодатель что-то нарушил, не проконтролировал или не сделал, однако он сам назначает состав комиссии по расследованию и оплачивает услуги привлеченных им же экспертов. А главное, он утверждает акт о несчастном случае. С трудом верится, что с такими возможностями работодатель признает себя виновным в случившемся. Скорее, обвинен будет работник, а если не он, то его бригадир или даже специалист по охране труда.
ПРАВИЛА НЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ…
Положения нормативных правовых актов в соответствии с законом должны устанавливать жесткие сроки вступления обязательных требований в силу. Наряду с “регуляторной гильотиной” это обязывает все федеральные органы исполнительной власти, в чьей структуре есть органы госнадзора, в сжатые сроки пересмотреть нормативные акты, в которых изложены обязательные требования. Это коснулось и документов Минтруда России, регулирующих сферу охраны труда.
Минтруду пришлось до конца 2020 года пересмотреть все правила охраны труда (они содержат набор обязательных требований) и в пожарном порядке их переиздать с прохождением правовой экспертизы и регистрацией в Минюсте России. В итоге появилось 40 приказов, утверждающих правила по охране труда по разным направлениям деятельности и отдельным отраслям экономики. Это во многом была “смена обложек” ранее изданных правил, с небольшой корректировкой их содержания в сторону снижения числа обязательных требований. Количество же действительно новых правил можно сосчитать на пальцах одной руки.
О качестве обновленных правил по охране труда и их полноте говорить сложно. Надо признать, что в ситуации ограниченных сроков у Минтруда России объективно не было возможности сосредоточиться на всесторонней отработке содержания правил.
Тем не менее все, кого правила касаются, должны четко выполнять их, даже если отдельные пункты вызывают сомнение. Например, пожарные могут тушить пожар в электроустановках, находящихся под напряжением до 10 тыс. вольт. Всех детей родители учат не совать пальцы в розетку, ибо это смертельно опасно. А теперь, получается, тушить водой или пеной электроустановку под напряжением до 10 тыс. вольт — неопасно для жизни или здоровья, если исходить из логики правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны (утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 881н).
Но укажем на один важный момент. Предварительно пожарный должен дать письменное добровольное согласие на такие действия. За глаза это согласие прозвали “распиской для начальства”, чтобы в случае гибели человека никто не нес ответственности за произошедшее.
Подчеркнем, подавать огнетушащие вещества на электроустановку под напряжением до 10 тыс. вольт — не обязательное требование правил по охране труда. Все оформлено как добровольное желание пожарного идти на риск. Причем Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания, куда входят тысячи пожарных, почему-то занял в данной ситуации позицию не защитника работников, а стороннего наблюдателя.
В этой связи возникает вопрос: а много ли найдется желающих выполнять такие “хитрые” требования правил охраны труда? Где гарантия, что завтра “передовой” опыт получения добровольного согласия на выполнение работ повышенной опасности не перенесут на водолазов, медиков, каскадеров, летчиков и людей других профессий, чей труд сопряжен с опасными факторами? Прямо признаем, такой подход удобен для работодателей, ибо он снимает с них всякую ответственность за несчастье.
…И ОПАСНОСТЬ БЕЗ ПРАВИЛ
Нельзя обойти стороной другую проблему. Утвержденных в установленном порядке правил по охране труда нет во многих важных отраслях экономки: в просвещении, спорте, туризме, торговле, гражданской авиации, металлургической, угольной, горной промышленности, в спасательных формированиях и т.д.
То есть для одних категорий работников правила по охране труда с обязательными требованиями есть, а для других — нет, и появятся ли — вообще неясно. Такая ситуация деления, образно говоря, на сынков и пасынков разумению не поддается.
Вместе с тем Минтруд России разработать все необходимые правила охраны труда не в состоянии, а профильные федеральные органы исполнительной власти и другие структуры этим не озабочены. Так, Минобрнауки России в соглашениях с отраслевым профсоюзом дважды обязывался разработать государственные нормативные требования охраны труда для подведомственных учреждений. Однако дальше красивых обещаний дело не пошло.
Несложно догадаться, что профсоюзы при отсутствии правил по охране труда, утвержденных на федеральном уровне, не имеют предмета и оснований для качественного контроля в этой сфере со своей стороны.
Сегодня при отсутствии правил по охране труда (и при минимуме обязательных требований в них) принято все проблемы решать через оценку профессиональных рисков. Еще не вступили в силу обновленные требования ТК РФ по профессиональным рискам, а интернет уже кишит предложениями коммерческих структур провести оценку, даже в космосе.
Может быть, лучше опуститься с заоблачных высот на землю и четко определиться с нормативной базой по охране труда?
Источник: www.solidarnost.org
