Бизнес-дайджест Живого Журнала
Самые интересные публикации о бизнесе
controlling24 wrote in business_digest May 20th, 2013
СтартапЁры. Часть первая
Нашла тут прекрасные истории, настоящий бизнес-детектив! Сразу делюсь с народом
История российского предпринимательства от лица её участников. В трех частях. Спецпроект о людях, которые создали бизнес в нашей стране.
ПЕРЕСТРОЙКА И «ЛИХИЕ» 90-е
Сегодня модно начинать бизнес «с нуля». Выставочные павильоны обеих столиц захламляют презентации инновационных идей молодых предпринимателей. Современный деловой человек — вечный стартапер. Но мы хотим рассказать о других стартаперах — эти люди создали бизнес в нашей стране. Теперь они готовы рассказать, как это было.
Историю российского предпринимательства специально для ВКУРСЕ.RU составили её участники — вице-президент банка «Тинькофф кредитные системы» Олег Анисимов, глава холдинга PMI Евгений Финкельштейн, светский лев Юрий Дормидошин и пресловутый «бандит», который пожелал остаться неизвестным. Ему будет посвящена третья часть.
В России хотят вернуть пионеров
Юрий Дормидошин
Всё началось еще в 85-м. Это было кооперативное движение. Создавались частные рестораны, выпускались пластиковые пакеты — блошиный был такой бизнес. Потом открылась вторая ниша — скупка цветных металлов. Продавались они в Прибалтику, которая только что отсоединилась. Вот тогда пошли достаточно серьезные деньги.
И предприниматели начали строить дома нереального размера на своих шести сотках — ужасная архитектура. Государство довольно быстро закрыло эту нишу, еще до путча, и они обанкротились. Многие так и не успели достроить эти свои дома.
Рухнуло огромное государство, рухнула огромная собственность — подобрали всё. Начался бум приватизаций. Начались все эти ваучеры и прочие. Вот здесь уже пошли очень большие деньги. Директора парикмахерских приватизировали парикмахерские, директора банков приватизировали помещения банков.
Тот, кто соображал, естественно, подбирал выброшенную недвижимость.
Предприниматели вначале имели абсолютно невыразительную внешность. Но потом, уже к году, когда они вылезли в тусовку, начали себя идентифицировать. До этого они боялись выделяться, потому что тут же наезжали бандиты, но с ними бизнесмены быстро договорились — обзавелись « крышами » — и принялись самовыражаться.
Российский предприниматель второй половины годов — это куча золота, жутко дорогие часы и кичевые малиновые пиджаки. Девушки стали выглядеть достойно.
Если раньше проститутка занималась только иностранцами — я имею ввиду самых лучших девушек, им было западло спать с русскими — теперь они все переключились на русских бизнесменов, потому что иностранцы по сравнению с ними стали просто нищими. И началась веселая жизнь, пошла гулянка. Гуляли все. Тут же открывались дискотеки, рестораны и прочие. У нас в Петербурге появилась ночная жизнь.
Правда, кризис тут же смыл весь этот пафосный налет. Я помню, мы были в Сан-Тропе, и мне там московские бизнесмены начали объяснять, что теперь они готовят дома, что это очень хорошо и вкусно. В общем, все приняли новые правила игры, все стали бедными. Но не надолго, месяцев на восемь. Потом все вернулось, с меньшим размахом, естественно.
Краткая история пионерской организации в СССР
И так до следующего кризиса.
Олег Анисимов
Предприниматели были, в основном, торговцами. Выглядели они, по нынешним меркам, достаточно клоунадно. Это не шутки, когда говорят про «новых русских» в пиджаках ярких цветов. Так они и ходили.
Те, кто покрупнее и посолиднее, торговали техникой: компьютерами, телефонами, факсами, ксероксами. А кто поскромнее, тот торговал мелким оптом: продуктами питания и всякой ерундой. Человек, который зарабатывал пару тысяч долларов в месяц, считался богатым. Очень модно было перепродавать. Происходило это так.
Услышал, отыскались знакомые, которые торговали, и люди ходили, всем предлагали этот товар с наценкой. До сделок доходило в очень редких случаях, потому что товара у этих людей не было, а у тех, кому они предлагали, не было денег. Получались такие многоступенчатые цепочки, когда каждый пытался себе урвать в партиях товаров. Я не исключаю, что этих партий не существовало в природе.
Бандиты были — действительно, это не шутки. Власть и у нас работает условно, не на всей территории страны применяются законы, и не ко всем они применяются одинаково. А тогда вообще был огромный коллапс огромной страны, и управление вообще отсутствовало. В суд было идти бесполезно, в милицию было идти бесполезно, вот и саморганизовывались.
Люди которые не могли найти деньги, вставали на этот скользкий путь. Они напрашивались в партнеры к предпринимателям, « крышевали » их. Многие бизнесмены попадали под это влияние, брали бандитов в долю, потом возникали споры, и предпринимателей убивали. В Питере каждый месяц убивали бизнесмена. У них и между собой разборки были, они друг друга тоже активно убивали.
Некоторые, самые умные, потом переквалифицировались в бизнесменов и живут в России до сих пор.
Евгений Финкельштейн
Пионеры российского бизнеса начинали со спекулянтов. Это были простые люди, как тогда говорили, с коммерческой жилкой. Они организовывали кооперативы и занимались, в основном, привозом алкоголя. Потом ушел в овощи-фрукты, очень большое количество предпринимателей стало заниматься привозом мяса.
Тогда все вывозили из страны деньги и, соответственно, привозили сюда продукты питания. В принципе, это продолжается и до сих пор.
Я помню, как они одевались. Это были польские свитера и ботинки , а некоторые носили спортивные костюмы Adidas, но это уже были не предприниматели. В девяностые годы люди делились на пацанов и барыг. Первые получали деньги — бывшие спортсмены, как правило, боксеры — а все вторые пытались зарабатывать.
Тогда мы зарабатывали безумные деньги. Они исчислялись миллионами. Правда, также бездумно, как зарабатывались, эти деньги и тратились. Многих грабили. На моей памяти было очень много и смертей: людей убивали, ну просто сплошь и рядом.
Бандиты при отсутствии правоохранительной системы — это был главный риск для бизнеса. Я старался с ними не связываться, потому что если ты с ними связываешься, то они садятся на тебя и едут.
В 94-м году, я открыл в Петербурге первый клуб, это была первая крупная дискотека, он назывался « Планетарий » . К нам приезжали все звезды, причем не только наши, но и зарубежные. Например, популярная в то время группа Scooter. И вот однажды пришли бандиты и сказали: чтобы деньги были такого-то числа. Потом пришли еще раз, я не пустил на дискотеку, тогда мне проломили голову, и на этом дискотека закончилась. Потом я долго лежал в реанимации, было несколько трепанаций.
Во второй половине 90-х, когда у предпринимателей появился досуг, они стали носить малиновый пиджак, золотой браслет и цепочку — чем толще, тем лучше —ходили с барсеткой. Лично я никогда не носил то, что носили другие. У меня был алый пиджак Versace, который стоил по тем меркам состояние. Бандиты тоже отдыхали, но не пили, а высматривали предпринимателей, которые отдыхают рядом.
Некоторые бизнесмены пытались с ними дружить. Обычно для них это заканчивалось плачевно.
В кризис почти все остались нищими, в том числе и мы. Я помню год — первый концерт Depeche Mode. Из-за того, что курс доллара с 6-ти рублей поднялся до 18-ти, аншлаговый концерт был полностью провален. Мы потеряли все деньги, на которые могли рассчитывать. После этого три года работали в убыток.
отсюда
Источник: business-digest.livejournal.com
Пионеры Кремниевой долины: как Степан Пачиков создал первый российский стартап, покоривший мир
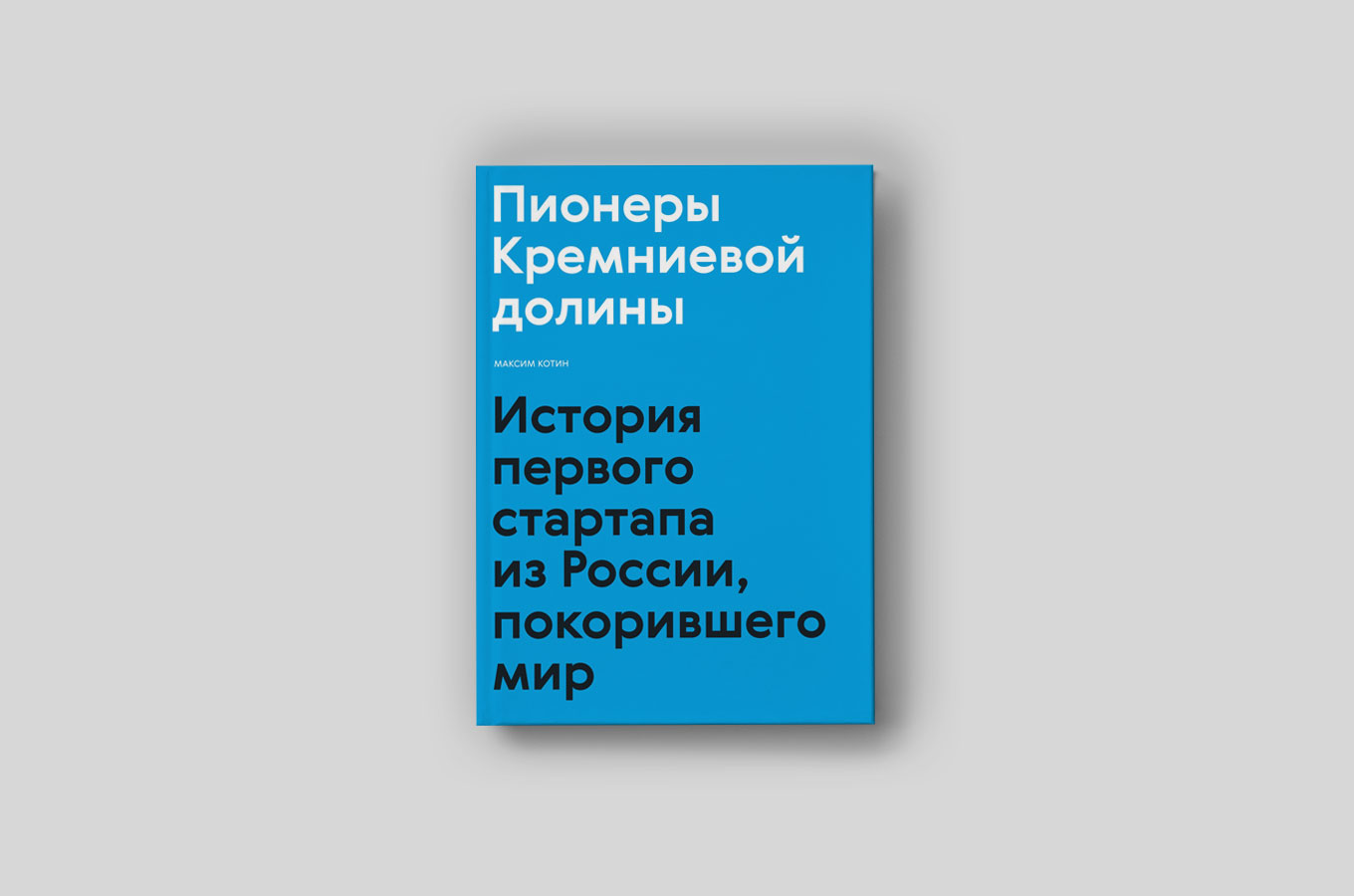
Создатель Evernote Степан Пачиков в 1980-е годы, когда он занимался разработкой ПО, написал письмо президенту США Рональду Рейгану и передал его через знакомого американца. В письме, которое, как он потом узнал, опубликовала одна из американских газет, Пачиков объяснял, что Америке не надо вводить эмбарго на ввоз персональных компьютеров в СССР, — наоборот, надо способствовать их широкому распространению, чтобы победить коммунизм.
Свою первую компанию «ПараГраф» Пачиков основал в 1988 году. В 1991 она получила от Apple заказ на разработку системы распознавания рукописного текста для КПК Newton, а Пачиков переехал в США. Представители «ПараГрафа» стали практически первыми живыми разработчиками из СССР, которых увидели в Кремниевой долине. Книга «Пионеры Кремниевой долины», которая выходит в феврале в издательстве «Манн, Иванов и Фербер», рассказывает, с чего начинались приключения русских на Западе. Inc. публикует отрывок из книги.
Пачиков следил за трендами компьютерной индустрии, читая западные журналы. Однако, чтобы узнавать самые последние новости, требовалось живое общение: нужно было посещать международные выставки и конференции и слушать, что говорят люди в курилках. И тут снова помогли уже наработанные связи.
Команда «ПараГрафа» получила возможность окунуться с головой в международную тусовку стартаперов благодаря поддержке Эстер Дайсон, американского журналиста и организатора технологических конференций в Америке и Европе. С ней Пачиков познакомился благодаря, разумеется, детскому компьютерному клубу.
Отец Эстер, английский физик Фриман Дайсон, привил дочери любовь к русской культуре — некоторые его преподаватели в Кембридже были эмигрантами из России. Эстер выросла в США, куда семья перебралась за несколько лет до ее рождения. Она закончила Гарвард, учила русский как иностранный и мечтала стать шефом бюро New York Times в Москве.
В итоге Дайсон все же оказалась в СССР — но уже в роли автора популярного технологического журнала Release 1.0, который выпускала с середины 1980-х. Эстер следила за изменениями в компьютерной индустрии в Восточной Европе, последовавшими за перестройкой в Советском Союзе. В 1989 году она решила посмотреть на все своими глазами и прилетела в Москву.
Разумеется, Дайсон не могла не посетить единственный в советской столице детский компьютерный клуб, основатели которого к тому же создали один из первых в СССР софтверных кооперативов. Пачиков приятно поразил американку своей энергией и общительностью. В отличие от многих других советских ученых, он мог разговаривать, глядя в глаза собеседнику, а не на носки своих ботинок.
В свою очередь американка тоже произвела на Степана впечатление. Современники описывали ее как женщину, которая не носила ни макияжа, ни украшений, жила кочевой жизнью, постоянно перемещаясь между городами и странами, поражала собеседников теплотой, энергией и непосредственностью и была бесконечно предана широкому кругу своих сподвижников по миру технологий. Многие протеже Дайсон из стран Восточной Европы на конференциях обычно следовали за ней по пятам, по выражению одного из американских предпринимателей, словно «цыплята за курицей». Знакомство быстро перешло в дружбу, которую несколько омрачило только то, что в одном из выпусков Release 1.0 Эстер назвала Пачикова «визионером, который притворяется бизнесменом». Степан не сразу понял, что это комплимент.
Когда Пачиков основал советско-американскую фирму и получил возможность выезжать за границу, Эстер пригласила его выступить на технологической конференции, которая проходила в начале 1990 года в Будапеште. Она называлась The East-West High-Tech Forum и была посвящена рынкам Восточной Европы.
Только на этой конференции Пачиков понял, что проглядел, может быть, главный тренд на рынке технологий. И на сцене, и в кулуарах все только и говорили что о новой эре, которая должна была вот-вот наступить благодаря появлению pen computers — компьютеров с электронной ручкой вместо клавиатуры.
Энтузиасты верили, что такие устройства произведут революцию на рынке, сделав компьютеры более похожими на обычные блокноты — а значит, и более понятными неопытным пользователям. Подобным компьютерам требовался интерфейс ввода, который бы совмещал преимущества двух типов данных — аналогового и цифрового. В аналоговом пользователям было бы удобнее вводить информацию — то есть писать от руки, как в обычном блокноте, — но полноценный компьютер должен был уметь хранить и обрабатывать введенную информацию в цифровом виде.
Загвоздка состояла в том, что пока еще не существовало решения, которое позволяло бы распознавать человеческие каракули и переводить их в понятные компьютеру символы. Зато именно над таким решением и работала пока еще никому не известная советская компания «ПараГраф».
Удача остается спорной территорией в современном атласе достижения успеха. Одни полностью отрицают удачу и любят приводить цитату, которую приписывают одному из отцов-основателей США Томасу Джефферсону: «Чем больше я работаю, тем удачливее становлюсь». Другие, более скромные мыслители отдают удаче должное — так же как и всем, кто пахал всю свою жизнь, но так и не стал миллионером. «Очень сложно распознать удачу — очень часто она выглядит как заслуженная награда», — говорил американский конгрессмен Франк Кларк.
Степан мог считать себя счастливчиком — хотя бы потому, что получил возможность делать бизнес в СССР: совместное предприятие «ПараГраф» появилось на свет благодаря не только его энергии, но и чистой воле судьбы. И фортуна, кажется, не собиралась покидать своего нового фаворита. Ведь получалось, что, основываясь на совершенно ошибочных предположениях, Пачиков и его команда, сами того не предполагая, взялись за создание технологии, которая могла стать ключом к новой многомиллиардной индустрии.
В марте 1990 года делегация «ПараГрафа» — Пачиков, Чижов, Лосев, Скалдин — отправилась в Ганновер на крупную отраслевую выставку CeBIT, чтобы заявить о себе и показать всю обширную линейку своих программных продуктов. Команда советского стартапа начала покорять западный мир, как только появилась возможность. И так вышло, что она оказалась за рубежом в самое подходящее время, какое только можно было выбрать.
За пять лет Михаила Горбачева у власти внешняя политика СССР сделала поворот на сто восемьдесят градусов. Холодная война с Западом официально была закончена. Советские войска из Афганистана выведены. Берлинская стена разрушена. Варшавский блок распущен, страны Восточной Европы получили право самостоятельно выбирать политический курс, не оглядываясь на Москву.
Преображение СССР из опасного и зловещего врага в великодушного, хоть и экзотического и несколько наивного друга западный мир воспринял на ура. Все советское вызывало любопытство. На Западе с удивлением обнаружили, что в стране коммунистов тоже есть люди — и некоторые из них вполне ничего.
Пожалуй, за многие десятилетия — если не за всю историю — это был пик мировой популярности русских. Дальше дело пойдет только по нисходящей.
Но в 1990 году многим на Западе хотелось помочь первой советской компьютерной фирме. Американская компания Ashton-Tate, разработчик базы данных dBase, даже пустила команду «ПараГрафа» на свой стенд, чтобы она могла показывать софт посетителям выставки — собственного стенда у советского-американского СП, разумеется, пока не было. Свою роль сыграл, конечно, и сам продукт — Пачиков еще в Москве демонстрировал распознаватель менеджерам корпорации. В начале девяностых Ashton-Tate была таким же брендом, как Microsoft или Lotus. То есть «ПараГраф» получил возможность демонстрировать свои технологии в самом престижном павильоне выставки.
Команда «ПараГрафа» беззастенчиво эксплуатировала интерес иностранцев к первой советской компьютерной фирме. На стенде Ashton-Tate представители фирмы стояли ряженые то ли в арестантов, то ли в солдат стройбата — в ватниках, подпоясанных советскими армейскими ремнями со звездой на бляхе. Позже Пачиков будет говорить, что ему стыдно за то, как они себя вели, — и, был бы он поумнее, таких выходок бы себе не позволял. Но, кажется, тогда советским посланцам в цивилизованном мире готовы были простить еще и не такой цирк.
Впрочем, те, кому это положено, сохраняли бдительность и после окончания холодной войны: пока команда «ПараГрафа» возилась со своими хренятинами в Москве и гастролировала по Европе, его американскому партнеру Скотту Клососки у себя в Оклахоме пришлось объясняться с ФБР. Два агента нагрянули к предпринимателю в офис и попросили проехать с ними. Они отвезли его в мотель, завели в номер и усадили за стол. Один из агентов выложил на стол пистолет — то ли чтобы удобнее было сидеть, то ли чтобы собеседник понял всю серьезность своего положения. После этого они принялись допрашивать Скотта об обстоятельствах поездки в СССР и дальнейшем сотрудничестве с коммунистами.
Несмотря на угрожающую мизансцену, Скотт не сильно испугался — он был уверен, что не сделал ничего противозаконного, и поэтому даже не подумал об адвокате. Тем более что его пока ни в чем не обвиняли. Скорее даже наоборот: агенты ФБР говорили, что хотят его защитить. Часть беседы они посвятили ликбезу: как стоит вести себя с русскими, чтобы не попасть в неприятности.
Прежде всего следовало избегать отношений с русскими женщинами — каким бы бесчеловечным ни казался такой запрет. Именно через них, предостерегали агенты, к нему и попробует добраться КГБ. Скотт и сам понимал, что в СССР нужно быть предельно осторожным, поэтому поблагодарил за советы. О визите ФБР он рассказывать советскому партнеру не стал.
Тем временем, отработав на CeBIT, команда «ПараГрафа» взяла в аренду минивэн и отправилась в путешествие по Германии, чтобы своими глазами увидеть незнакомый им свободный мир. Доехав до Берлина, пошли собирать камни разрушенной стены. Перейдя в западную часть, прогуляли там всю ночь — вместе с толпами местных жителей, которые до сих пор, с ноября 1989 года, пребывали в эйфории и праздновали уже неминуемо надвигающееся воссоединение Германии.
Показать себя в Европе — уже немало. Но для настоящего прорыва надо было ехать в США, где работали крупнейшие компьютерные фирмы. И вот спустя пару месяцев, в июне 1990 года, делегация «ПараГрафа» высадилась в Атланте, штат Джорджия, чтобы продемонстрировать бетаверсию своего распознавателя на крупнейшей международной компьютерной выставке Comdex.
Знатоки называли эту выставку важнейшим событием для технологических компаний. Ее размеры поражали воображение: казалось, не хватило бы и недели, чтобы обойти все павильоны и осмотреть каждый стенд. Участники конференции обычно оккупировали все городские отели и немало портили жизнь местной публике, всюду создавая пробки и очереди: на дорогах, в ресторанах и даже у телефонных будок. Comdex — это Woodstock компьютерной индустрии, провозглашал один из экспертов, сравнивая выставку технологий с американским музыкальным фестивалем 1969 года, который посетили около 400 тысяч человек.
Сложно было представить более подходящее место для изучения американской индустрии. К тому же в Штатах эйфория из-за окончания холодной войны была не меньше, чем в Европе. Как раз незадолго до Comdex состоялся первый визит Михаил Горбачева в США. Советский президент был на пике своей мировой популярности — и в полушаге от получения Нобелевской премии.
Американский бизнес в то же время делал свои первые шаги по освоению нового, неведомого, но интригующего советского рынка — в самой Москве к тому моменту уже открылся первый «Макдоналдс». За бигмаками и картошкой фри выстраивались многочасовые очереди граждан, желающих попробовать диковинные блюда, придуманные в стране бывшего потенциального противника.
На волне «горбомании» первая советская компьютерная фирма, оказавшаяся на Comdex, была обречена на успех. Команда «ПараГрафа» почувствовала поддержку американцев, едва только приехала на выставку. Все оборудование для стенда отправили службой доставки, и она его потеряла. В итоге технику собирали всем миром — многие американцы хотели помочь советской фирме. К счастью, сами программы, необходимые для демонстрации, сотрудники компании привезли в личном багаже на дискетах.
Многие спрашивали, можно ли их технологию распознавания использовать для текста, введенного с помощью электронного пера. Пачиков отвечал, что в теории — да, а на практике — пока нет. Потому что нет у них техники, чтобы заняться этим направлением. Цифровая ручка была игрушкой не только очень дорогой, но и дефицитной. В Москве «ПараГраф» обходился ручным сканером, подаренным одним из гостей компьютерного клуба — президентом и сооснователем фирмы Logitech Пьерлуиджи Запакоста.
Теперь же другой президент, на этот раз японской компании Wacom, вручил Пачикову новейший образец электронного пера, разработанного компанией. Устройство еще даже не поступило в продажу, и значение дара сложно было переоценить: благодаря такому девайсу «ПараГраф» мог теперь заняться адаптацией своей технологии к новому перспективному рынку. В отличие от сканера, перо оперировало не статичным, а динамичным изображением. Оно содержало информацию о движении руки во времени — и тем самым позволяло точнее идентифицировать хренятины.
Вокруг стенда «ПараГрафа» постоянно крутились журналисты — первое в истории Comdex советско-американское совместное предприятие было событием для выставки. Об интервью попросил даже новостной канал CNN. Это, впрочем, привело к первым разногласиям между партнерами.
Скотт устроил все так, что съемочная группа появилась у стенда в отсутствие Пачикова. Возможно, это было чистой случайностью, но Степан предположил, что его компаньон опасался за плохой английский партнера. Не исключено, что им также двигало и вполне объяснимое желание оказаться на авансцене и использовать этот шанс для личного продвижения. Когда Пачиков вернулся к стенду «ПараГрафа», съемочная группа уже паковала оборудование. «Жаль, мы уже закончили», — сказал репортер из вежливости, продолжая собирать вещи. «Да, жаль, я как раз хотел рассказать, как компьютеры уничтожили коммунизм», — сказал Степан.
Репортер тут же дал коллегам сигнал распаковываться. Они снова поставили камеру и свет и записали большое интервью с Пачиковым. Степан выдал свою любимую речь о том, что авторитаризм невозможен без контроля за информацией, а распространение персональных компьютеров лишило власти СССР такого контроля. И самое поразительное, удивлялся основатель «ПараГрафа», что КГБ проморгал эту угрозу!
У него имелась в запасе любимая история, иллюстрирующая тезис. Чтобы установить аппарат Xerox в «ПараГрафе», ему пришлось несколько месяцев выбивать разрешение у КГБ, который контролировал распространение копировальной техники. При этом десятки уже установленных компьютеров, которые могли распространять информацию быстрее любого ксерокса, чекистов совершенно не заботили.
Идею о разрушении тоталитаризма с помощью технологий Пачиков продвигал еще с самого начала перестройки. В 1986 году он даже написал статью-обращение к американскому президенту Рональду Рейгану, в котором призывал отменить ограничения на поставки техники в СССР.
Степан пытался опубликовать статью на Западе, передав ее за границу через знакомого американца, который часто приезжал в Москву. Американец, впрочем, вместе с письмом взял семьсот долларов, чтобы открыть счет в США на имя одного из знакомых Пачикова. Советские граждане слабо представляли, как устроена западная банковская система, и поэтому думали, что с такой операцией не возникнет никаких сложностей. Судьба и денег, и письма осталась Степану неизвестной. Больше он этого американца не видел.
Основатель «ПараГрафа» не был одинок в своей оценке того, какое влияние компьютеры могут оказать на авторитарные системы. Позже он узнал, что в 1985 году основатель Apple Стив Джобс во время визита в Москву тоже пытался лоббировать отмену запретов на поставки техники в СССР, используя похожую аргументацию: «Предоставив русским Mac, мы позволим им издавать собственные газеты!» — убеждал предприниматель Майка Мерина, торгового атташе американского посольства в Москве.
Теперь же, в 1990 году, речь о Рейгане, персоналках и контроле за информацией удачно влилась в новостную повестку — в ходе своего визита в США Горбачеву как раз удалось добиться от Рейгана смягчения ограничений, наложенных на экспорт технологий в СССР.
В общем, CNN не просто упомянуло «ПараГраф» в репортаже о выставке или выдало одну-две цитаты. Телеканал выпустил об американско-советской фирме десятиминутный сюжет в рубрике Faces of the Future — «Лица будущего».
После этого Пачиков задумался о том, что Скотт все-таки недостаточно опытен. Он должен был бы догадаться, что в сложившейся обстановке не стоило прятать от журналистов советского партнера. Наоборот, следовало выдвинуть его на авансцену. Клососки отдавал должное маркетинговой находчивости своего компаньона — Степан, например, придумал штамповать на советских банкнотах контактные данные фирмы и раздавать рубли в качестве визиток. Учитывая обстановку, ход вышел эффектным.
Но и опасения Скотта за английский Степана тоже имели под собой основания: на Comdex Пачиков впервые говорил на камеру, отвечая на вопросы на чужом языке. Послушав, как Клососки дает интервью, он потом спросил с обидой: «Скотт, а почему ты все время называешь наши разработки самоварными?» Американец даже сначала не понял, о чем речь. «Ну ты все время говоришь: samovar-technologies, samovar-technologies…» — объяснил Степан. На самом деле Скотт говорил some of our technologies — «некоторые из наших технологий».
Впрочем, и Скотт, и Степан в целом все же оставались довольны друг другом, прекрасно понимая, что их встреча была большой удачей для обоих. Внимание прессы, интервью американским журналистам, первые контакты с влиятельными компьютерными фирмами, да и само попадание в Америку с ее магазинами, полными товаров в красочных упаковках, стремительными хайвеями и людьми совершенно разных национальностей, — все эти новые впечатления, разумеется, будоражили воображение и не слишком искушенные умы советских ученых. История, казалось, подарила им шанс, который редко выпадает русскому человеку на чужбине. С умом использовав интерес ко всему советскому на Западе, они, наверное, и вправду могли добиться мирового признания и реализовать завиральную идею Пачикова о «русских Bell Labs».
Однако что делать дальше и как перейти от разговоров к реальным контрактам — как построить по-настоящему международный бизнес на разработке и продаже интеллектуального продукта? Этого ни Скотт Клососки, простой торговец из Оклахомы, ни тем более Степан Пачиков, вчерашний старший научный сотрудник Академии наук СССР, не знали.
Источник: incrussia.ru
Артур Кангин | Клеопатра и пионеры российского бизнеса


Катавасия в поезде «Москва – Новороссийск» так растревожила сыщика Рябова, что он сутки нон-стоп играл на раскладном саксофоне. Мои же глаза от бессонницы налились кровью, причем левый сам по себе почему-то подмигивал.
— Рябов, надо что-то делать! — наконец вскричал я. — А вы ни тпру, ни ну…
Сыскарь оттер фарфоровый мундштук саксофона носовым платком с фамильной монограммой, музыкальный инструмент отложил в сторону.
— А что лично вы, Петя, думаете об этой истории?
— Чего думать? В поезде «Москва – Новороссийск» пропадают люди. Причем не заурядные обыватели, а пионеры российского бизнеса. Версия номер 1. Их убили. Версия 2. Их похитили, значит, потребуют выкуп.
Сыщик лукаво усмехнулся:
— Однако выкуп никто не требует?
— Именно так! — вскричал я. — Мне только не ясно, почему, блин, пионеры бизнеса садятся именно в этот злосчастный поезд. Мало ли у нас других поездов? Или бы, лучше всего, летали бы на своих суперджетах. На чем они там еще летают?
— Отменная ремарка! А может, они хотят быть поближе к народу? Вожделеют прикоснуться к мозговой косточке исконного духа?
— Шутите? Видите, что творится с моими глазами?
— Они налились лютой кровью. Левый моргает.
— Вот! Скажите же мне, как на духу, беремся мы за это дело или не беремся?
— Ах, Петечка, горячая вы голова. Натягивайте походные штаны цвета хаки. В путь!
2.
Поезд №101 отправлялся с Казанского вокзала. На перроне мы с Рябовым съели по, обильно истекающему мясным соком, чебуреку, запили всё это великолепие урюпинским квасом «Дядя Вася».
— Мне кажется наш герой — чистильщик, — сквозь зубы произнес Рябов. — Уничтожает он исключительно коррупционеров.
— Герой наших дней? — ковырял я в зубах балабановской спичкой.
— Поверьте, родной, эти пионеры — отъявленные мерзавцы.
— Клейма негде ставить… Подонки! Гниды!
— А то! Только какого лешего они все прут в Новороссийск? Отчетливо понимая, что этот вояж может оказаться последним.
— Постойте, Рябов! А не продают ли по случаю новороссийский порт? Или цементный завод?
— Завод — это вряд ли… А вот порт — в десяточку. Из него гонят не только за рубеж русскую нефть, но и русский лес.
— Однако зачем этим тузам в Новорос ездить самим? У них же сотни тысяч лакеев. Адвокаты, референты, сто тысяч курьеров.
К нам подошла проводница. Высокая, где-то см под 185, черноглазая, с кудрявыми каштановыми волосами, с игривой челкой.
— Мальчики, заходите в вагон. Через пять минут трогаемся.
— К чему спешить? — как от осенней мухи я отмахнулся от дылды. Признаться, женщины выше меня (я о физическом статусе) меня смущают. Смотреть на них снизу вверх? Увольте!
— Тогда угостите сигареткой, — обратилась проводница к Рябову.
— Не курю! — Рябов из ноздрей ястребиного носа выдул струю сигаретного дыма.
3.
До Рязани добрались без приключений. Поезд почти пуст. Все-таки сказалась молва о гибельном рейсе. Причем испугались почему-то не олигархи, а плебс, простонародье.
— Чай? Кофе? — заглянула к нам купе дылда проводница.
— У нас с собой армянский коньячок, — акцентировано подмигнул я своим перманентно мигающим левым глазом.
— Алкогольные напитки у нас распивать запрещено. Хотя с вами я с удовольствием выпью. Клеопатрой меня зовут. Правда, странное имя?
— Почему же? — улыбнулся сыщик. — Я — Рябов. А это мой друг, Петр Кусков.
— Секундочку. Я только попудрю носик.
— Пошла нюхать кокаин? — насторожился я.
Рябов повел могучим плечом. Позвоночник его воинственно щелкнул.
— Петя, не надо воспринимать все так буквально. Пудра и есть пудра. И ничего более. А вот на коньячок вы ее заманили кстати. Однако есть ли у нас сам коньяк?
— Помните, вы проиграли мне бутылку?
— Святочный спор о погоде в Гваделупе? И вы возите с собой этот коньяк столько лет? Оригинал! Но вернемся к нашим баранам. Точнее, к бортпроводнице.
Имя ее действительно странное.
— Маша… Клеопатра… Дуня… Какая разница?
— Не скажите! Клеопатрой звали египетскую царицу. Она же, по утверждению А.С. Пушкина, выкидывала в окно своих хахалей.
— Наша бортпроводница вышвыривает пионеров из поезда?
— Это всего лишь версия… Вот под коньячок-то мы и попытаемся расставить все точки над «ё».
— Над «и», — поправил я.
— Помяните мое слово, у нас будет значительно больше точек.
4.
Клеопатра Леонардовна оказалась весьма милой собеседницей. Своими рассказами не давила. Почти немотствовала, налегая на коньяк. Я даже испытал некое отчаяние. Удастся ли нам расставить все точки над «ё»?
Вряд ли!
Рябов потер щеку в серебристой щетине:
— Извините, что тогда на перроне не угостил вас сигаретой. Не люблю курящих женщин. Для меня они столь же дики, как здоровый мужчина, вышивающий макраме.
Я всплеснул руками:
— Зачем же вы тогда спрашивали сигарету?
— Для завязки разговора. Вы, Петр Кусков, страшно напоминаете мне одного никелевого магната.
— Его! Вот я и озадачилась, чего это магнат решил прокатиться в плебейском поезде.
Я протянул проводнице свой стальной жетон акушера второго разряда.
— Вот мой документ. Если соберетесь рожать, звоните.
— Я одиночка. Мужчины меня практически не волнуют. К тому же мужиков пугает мой рост, под 185.
— Играли в баскетбол? — сощурился Рябов.
— За «Торпедо» Ярославль. Я мастер спорта. Потом потянула связки, сломала ногу.
— А почему же такое странное имя? Клеопатра? — насел я.
— Странное? Наверное… Папа мой, Леонард Исаевич, был археологом. Всю жизнь изучал пирамиды. Клеопатра, сводившая с ума цезарей, была его кумиром.
Я присмотрелся в проводнице. Она совсем молода. Лет 25-26. После армянского коньяка лицо её дивно изменилось. Что говорить, чертовски хороша!
Вопреки своему богатырскому статусу.
5.
В легком подпитии мы с Рябовым обошли поезд. Ничего подозрительного. Едят, пьют, спят. Некая тривиальная модель российского общества. Да и почему только российского?
Любого! Общество потребления куда-то едет. Всего-то делов.
Осели в вагоне-ресторане. Освежили затухающий алкоголь английским элем. Скушали запеченную курицу в антоновских яблоках.
И тут к нам подвернул повар Гаврилыч. Имя мы его узнали чуть погодя.
В высоком крахмальном колпаке. Слегка под шафе. По виду вылитый кубанский казак. С вислыми седыми усами, брюшком, с выпученными и нагловатыми очами.
— Я — ветеран всех объявленных и необъявленных воин, — с порога нашего знакомства заявил Гаврилыч. — Чечня, Абхазия, Сирия, Уганда, Мозамбик.
— Нам какое дело? — недоверчиво скосился я. Врунов я, честно говоря, недолюбливаю.
— Знаете, господа, я просто устал от порохового дыма и окопных вшей. Воюешь, воюешь, а что толку? Земной шарик как был круглым, так круглым и остается.
— Предпочитаете жить на плоской земле? — Рябов с жизнеутверждающим треском оторвал у курицы-несушки ногу.
— Га-га! — захохотал Гаврилыч. — Я, господа-товарищи, хочу вас спросить, с какого бодуна вы сели на этот проклятущий поезд?
— Почему же проклятущий? — резко накатил я стопарь эля.
— Да из него же олигархи вылетают, что райские птицы! Один утонул в Дону, другой в реке Кубань. Кто-то размозжил башку в тоннеле у станции Тоннельная.
— Знаете ли вы, уважаемый Гаврилыч, проводницу Клеопатра? — внезапно среагировал Рябов.
— Да кто же ее, шалаву, не знает?
6.
