
Спрос на приполярные путешествия растет три года подряд: туристы отправляются в круизы на ледоколах, ночуют в юртах и наблюдают за белыми медведями. Кризис, дешевые авиабилеты, публикации в медиа — пока эксперты разбираются в причинах бума на экстремальные путешествия, туроператоры (и большие, и маленькие) бросают людей и деньги в освоение Арктики. Разбираемся, как они это делают.
Лучший показатель роста — у Камчатки, которая в 2015 году приняла 183 000 человек — втрое больше, чем в 2014-м. Ненецкий автономный округ в позапрошлом году посетили 34 000 туристов, +71,8% по сравнению с 2014-м. Национальный парк «Русская Арктика» в Архангельской области также отчитался о небывалом за всю историю наплыве туристов.
Посмотреть одни из самых северных территорий планеты — Землю Франца-Иосифа и Новую Землю — в 2015 году ездили 1225 туристов. Итоги-2016 в этих субъектах еще не подвели. Зато отчитались Мурманская область (320 000 человек, +10% по сравнению с 2015 годом), Ханты-Мансийский округ (530 000 человек и те же +10%) и Карелия (+3,2%).
Создал бизнес прямо в квартире #мотивация #бизнес
Федеральные туроператоры: юрты, медведи, Баренцбург
— В 2015 году наши продажи увеличились на 25%, в 2016-м — на 40%, — говорит Вадим Мамонтов, генеральный директор компании RussiaDiscovery, специализирующейся на экстремальном туризме. — Отдельные направления становятся популярнее в разы. Например, спрос на плато Путорана, горный массив на севере Красноярского края, у нас за 2016 год вырос на 200%.
Внимание путешественников к Крайнему Северу отмечают и в компании «Ультра-Трэвел Люкс», которая также продает экстремальные туры.
— У наших клиентов в последние 2–3 года особенно вырос интерес к Шпицбергену, причём именно к российской части, поселку Баренцбург. Там, в отличие от норвежской территории, есть русскоговорящие гиды и инструкторы. За прошлый год это направление выросло у нас на треть, — рассказывает исполнительный директор компании Наталья Минакова.
На волне спроса в 2015 году «Ультра-Трэвел Люкс» открыли два новых направления — Камчатку и Чукотку. Самое популярное место — остров Врангеля, где можно наблюдать за полярными медведями, которых там очень много.
Успехи RussiaDiscovery и «Ультра-Трэвел Люкс» отчасти можно списать на их специфику: арктическим туризмом обе компании занимаются с середины нулевых. Однако операторы, до недавнего времени не имевшие отношения к Крайнему Северу, также начинают осваивать это направление. Компания «Виадук», основанная в 1998 году, два года назад запустила четырехдневный тур в город «ближней Арктики» Нарьян-Мар. Туристам предлагают катание на нартах и ночевку в ненецком чуме. Маршрут «Виадуку» предложила администрация Ненецкого автономного округа.
— Мы съездили на место, нам понравилось, и стали продавать, — рассказывает директор компании Лариса Фёдорова. — Это нерегулярная программа, мы ее организуем для небольших групп по 5–7 человек. Интерес со стороны туристов мы связываем с тем, что в Нарьян-Мар есть регулярные рейсы, до города несложно добраться.
Новые ниши для Бизнеса, идеи бизнеса, актуальные в 2021-2022 годах


Местные турфирмы: ледоколы, юрты, недорого
Несколько лет назад туристические предложения по Крайнему Северу сводились преимущественно к ледокольным экспедициям на Северный полюс и арктические архипелаги. Такие поездки требуют физической подготовки и колоссальных затрат (стоимость ледокольного круиза на Шпицберген начинается от 300 000 рублей с человека, а на Северный полюс — от одного миллиона рублей). Благодаря изобретательности региональных компаний северный туризм становится разнообразнее, комфортнее и дешевле.
Архангельский туроператор «Помор-Тур» с прошлого года организует путешествия на действующих ледоколах — по договору с Росморфлотом. Туристов вписывают в состав экипажа, и люди «вживую» наблюдают ледовую проводку судов, буксировку, подвод к причалу, обкалывание льда. Такая схема организации позволяет продавать путевки по 12 000–15 000 рублей в день. Путешествие на арендованном ледоколе обойдется минимум в 10 раз дороже.
— Аренда ледокола обходится туроператорам в среднем в два миллиона рублей за сутки. Мы же договариваемся с Росморфлотом и платим ему комиссию до 80% с путевки. Экипаж ледокола кормит туристов и размещает в каютах, — объясняет финансовый директор «Помор-Тура» Сергей Никулин.
За первый сезон оператор продал путевки 150 туристам. Мест хватает не всем желающим, потому что рейсы охватывают лишь четыре ледокола: два речных курсируют по Северной Двине, а два морских выходят в Белое море. При этом каждый речной ледокол принимает на борт максим 5 туристов за раз, морской — 12.
Камчатский клуб путешествий «Горная территория» вторую зиму подряд строит для туристов иглу, где можно выпить за барной стойкой из снега, посидеть на троне Деда Мороза и даже переночевать. Весной сооружения тают, и каждый сезон их надо возводить заново. Для этого нужна команда из 10 человек: резчиков по снегу, инженеров и электриков.
— Всё действительно сделано из снега, но температура внутри не опускается ниже трёх градусов, так что на шкурах и в спальнике вполне можно спать, — рассказывает руководитель компании Виталий Лазо.
Петр и Наталья Богородские, путешествующие по Крайнему Северу с 2007 года, отмечают, что в последние годы также развивается охотничий и рыболовецкий туризм. Жители полярных деревень и поселков восстанавливают заброшенные избы и поселения, устраивают весеннюю и осеннюю охоту на гуся. А на каждой семужьей речке есть рыболовная база, особенно много их на Кольском полуострове.

Точки роста
Турпоток на Крайний Север начал расти с наступлением кризиса 2014 года. Обесценивание рубля вызвало спад интереса к зарубежному туризму, а спрос на отдых в России увеличился почти вдвое, утверждает Аркадий Гинес, директор по развитию сервиса бронирования путешествий OneTwoTrip.
— По нашим данным, в 2016 году соотношение зарубежных туристических поездок, включающих авиаперелет и бронирование отеля, к поездкам по России составило 30–35% к 65–70%. Это против 50 на 50 до начала кризиса, — отмечает эксперт.
Другим фактором роста интереса к Северу, продолжают рассказывать в OneTwoTrip, стало удешевление авиаперевозок. Так, по данным компании, в 2015 году по сравнению с 2014-м на 20% подешевели билеты из Москвы в Архангельск (7 400 рублей → 5 800 рублей), на 16% — в Мурманск (7 500 рублей → 6 300 рублей), на 18% — в Нарьян-Мар (10 200 рублей → 8 400 рублей). Это связано с появлением лоукостера «Победа» и введением более дешевых безбагажных тарифов многими российскими перевозчиками, заключает Аркадий Гинес.
Среди других факторов роста Вадим Мамонтов из RussiaDiscovery называет публикации в медиа. Когда в National Geographic появилась серия фотографий с камчатского острова Врангель, туда стали круглый год водить экспедиции. Люди захотели увидеть «колыбель белых медведей», снимки которой опубликовал журнал.
— А спрос на плато Путорана в прошлом году не в последнюю очередь вырос благодаря фильму «Территория» 2014 года, — продолжает Мамонтов. — Эта лента дала рекламу и другим северным регионам.

Прогнозы, инвестиции, риски
Несмотря на обнадеживающие цифры, туристический бум российскому Северу пока не светит, убеждена Галина Дехтярь, профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС.
— Такие путешествия стоят дорого, при этом сервис, транспортная доступность и условия как таковые оставляют желать лучшего, — поясняет эксперт и добавляет, что люди ждут развития «теплых» направлений, а не «холодных».
Похожую оценку перспективам северного туризма дают и в OneTwoTrip:
— Сибирь, Камчатка, Карелия и другие регионы, богатые уникальными природными местами, привлекают путешественников. Однако интерес к ним обычно пропадает после изучения инфраструктуры. Даже в тех местах, где есть качественные отели, они не рассчитаны на большой поток отдыхающих.
Опять же, из-за отсутствия инфраструктуры порог входа бизнеса на Север — высокий, а инвестиции возвращаются медленно. По словам Вадима Мамонтова из RussiaDiscovery, организация экстремального зимнего тура на Крайний Север требует 15–20 млн рублей вложений. Если делать направление круглогодичным, понадобится 25–30 млн рублей. В обоих случаях возврат средств растянется примерно на 10 лет.
В течение этого времени возникнут и новые расходы, например, на ремонт и обновление парка техники. Прежде всего речь идет о транспорте первой необходимости — снегоходах.
Путешественники пусть не массово, но всё же идут на Север и хотят делать это с комфортом: в дороге, размещении, ценах. Устраивать туры по незаселенным землям дорого, но есть альтернативный вариант — стать «местным жителем» и открыть небольшую турфирму, охотничью базу или гостевой дом. Впрочем, эта идея скорее для решительных искателей приключений, чем для предпринимателей: немногим понравится жить вдали от цивилизации и ждать возврата инвестиций, как у Баренцева моря — погоды.
Источник: incrussia.ru
Бизнес на Севере

Предисловие редакции: В редакцию поступил, пост от анонимного гражданина, состоящий исключительно из названия «Бизнес на Севере» и ссылки на материал на сайте life.ru Во-первых, редакция не согласна с названием поста. Правильный заголовок, по мнению редакции — «Бизнес в России». Во-вторых редакция понимает, что материалы на сайте life.news на такие темы не бывают бесплатными. Тем не […]
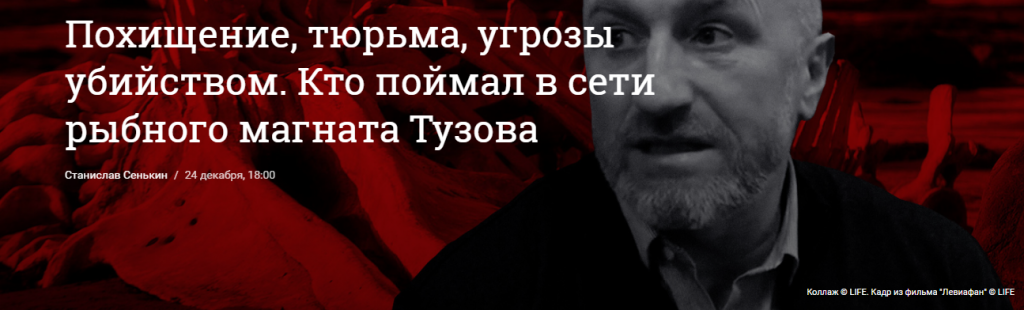
В редакцию поступил, пост от анонимного гражданина, состоящий исключительно из названия «Бизнес на Севере» и ссылки на материал на сайте life.ru
Во-первых, редакция не согласна с названием поста. Правильный заголовок, по мнению редакции — «Бизнес в России». Во-вторых редакция понимает, что материалы на сайте life.news на такие темы не бывают бесплатными.
Тем не менее, редакция публикует этот пост. Потому как события, описанные в статье life.ru похожи на правду.
Практически всегда там, где появляются большие деньги, тут же появляются отдельные нечестные «силовики», желающие оторвать жирный кусок. Либо отдельные нечестные граждане, которые пытаются сделать тоже самое при помощи отдельных нечестных силовиков.
Автор соседней песочницы дописался до того, что империю «предпринимателя, опередившего свое время» (с) Геннадия Шубина раздербанила экс-губернатор Марина Ковтун, чтобы прибрать его активы в свое личное пользование. Однако Марина Ковтун уже больше полгода, как «экс», а буквально пару недель назад кто-то «отменил» Шубину его освобождение по УДО. Зададимся глупым вопросом «Кто бы это мог быть?»
Рыбопромышленник Тузов впервые намекает на выгодоприобретателя своих «приключений». Он не до конца уверен, но подозревает в этом Виталия Орлова. Так ли это на самом деле? Ведь объемы рыбодобычи Виталия Орлова в сорок раз превышают объемы Юрия Тузова.
По информации редакции, Виталий Орлов чувствует себя в России более чем уверено. Чувство уверенности, да еще при таких деньгах, может гарантировать только наличие крутой «крыши».
Однако бизнес самого Виталия Орлова также пытаются дербанить с помощью бывшего партнера Орлова Александра Тугушева (кстати, редакция помнит как оба эти господина часто вместе курсировали в Норвегию в 90-е годы). Что это? С крутой «крышей» соревнуется другая крутая «крыша»? Редакция совершенно запуталась в законах и понятиях бизнеса на Севере в России.
Источник: mmk.news
«Промышленный бизнес на Севере неконкурентоспособен»
Каким образом можно удержать население на Дальнем Востоке? Являются ли большие зарплаты стимулом для желающих работать в горнодобывающих предприятиях? Почему рентабельность даже крупных отраслевых компаний не превышает 12 процентов? Вернут ли недропользователям деньги за похищенное с Колымского аффинажного завода золото?
Стоит ли рассчитывать на льготы, которые гарантируют производственникам особые экономические зоны? Все эти вопросы и стали предметом нашего разговора с председателем совета директоров ОАО «Сусуманзолото» Владимиром ХРИСТОВЫМ.
Период непростой, но интересный

— Владимир Кириллович, насколько известно, сейчас в компаниях вашего холдинга идут серьёзные кадровые перестановки. С чем они связаны?
— Да, мы действительно переживаем сложный, но в то же время интересный момент, связанный с кадровым обновлением. И речь идёт исключительно о возрастных факторах. Многие руководители и ключевые сотрудники предприятий нашей промышленной группы вышли на пенсию и выехали за пределы Колымы. В основном в западные регионы России.
Людей понять можно, большинство из них отработало на Севере по нескольку десятков лет. И вполне естественно, что на пенсии они хотят жить в более комфортных условиях. Поэтому сейчас мы активно обновляем состав ИТР.
— Это сложный процесс?
— Сложный. Во-первых, сложность в том, чтобы подобрать по-настоящему профессиональные кадры. Продают себя сегодня многие, но трудно сразу понять уровень их компетенции в профессии.
— Каким образом принимаете людей на работу?
— Подбираем кадры среди своих работников — даём возможность двигаться по карьерной лестнице, также через кадровые агентства. Используем интернет-ресурсы.
— У вас есть испытательный срок для кандидатов?
— В каждом конкретном случае приёма на работу используется весь спектр прав, предусмотренных для работодателя при приёме на работу, в том числе возможно использование и такого условия, как испытательный срок. В некоторых случаях, когда соискатель нас заинтересовал, мы можем оплатить ему дорогу к месту будущей работы, чтобы он мог проявить себя, доказать свой профессионализм. Если он подходит нам, а мы ему, вопрос с трудоустройством решается незамедлительно. Если нет — несостоявшийся работник возвращается домой.
— Мы с вами говорим о кадровой ситуации с ИТР. А ситуация с рабочими выглядит иначе?
— При подборе рабочих кадров также большое внимание уделяем профессиональной подготовке соискателей, так как работать им предстоит на самой современной горной технике и оборудовании, которые имеют высокую стоимость. Например, цена тяжёлых бульдозеров — от одного миллиона долларов и выше. Поэтому при подборе специалиста важно, чтобы он смог обеспечить высокую производительность вверенной ему техники и, тем самым, оказал существенное влияние на снижение себестоимости добычи золота. Кроме того, у нас есть собственный учебно-курсовой комбинат, в котором мы готовы обучить желающих добросовестно работать в структурах нашей промышленной группы.
Не только зарплата

— В компаниях, подконтрольных вашей группе, хорошие зарплаты. Это на Колыме известно, наверное, всем. Да и не только на Колыме, ведь к вам на работу приезжают люди и из западных регионов страны, и даже из ближнего зарубежья. Остаётся ли кто-то из них на Севере, что называется, на постоянное место жительства, как это было в советские годы?
— Если и есть люди, которые остаются на постоянное место жительства, то их единицы. В основном здесь наблюдается обратная тенденция. Так что о постоянно живущих на этой территории работниках мы можем только мечтать. И ведь всё очевидно. Молодым специалистам нужны не только высокие зарплаты, но ещё и комфортные и современные условия жизни.
Те же клубы, те же рестораны, те же кинотеатры или театры. В Магадане всё это есть. А вот в Сусумане, например, где работает и «Сусуманский ГОК», и ряд других структур нашей группы, ничего подобного нет в принципе. Чем удерживать молодёжь? Природными красотами? Охотой или рыбалкой?
Но жить только этим, да ещё и в наших суровых климатических условиях, где зимние морозы порой достигают отметки в минус 50 градусов по шкале Цельсия, мало кто хочет.
В итоге местная молодёжь, добившись хоть каких-то профессиональных успехов, стремится отсюда уехать. Как минимум, в Магадан. Ведь на охоту и рыбалку можно наведываться и из областного центра. Так что кадровый голод ощущается всё больше.
— Можно ли выправить эту ситуацию?
— Конечно, можно! Но для этого нужно соблюсти два условия: в разы повысить качество жизни в районах Магаданской области и создать условия для повышения конкурентоспособности региональных горнодобывающих компаний, что, в свою очередь, стимулирует рост зарплат. Достойная жизнь и деньги — вот самая простая и эффективная схема.
— Есть идея принять федеральный закон о безусловном доходе для жителей Дальнего Востока. То есть если человек живёт в непростых природно-климатических условиях ДФО, то он имеет право на некую ренту. Как вы к этому относитесь?
— Я сомневаюсь, что в обозримом будущем такой закон будет принят. К тому же Дальний Восток неоднороден. И условия жизни в том же Приморском крае, на мой взгляд, мало чем отличаются от условий жизни в Подмосковье или в Поволжье. Климат достаточно мягкий, транспортные потоки развиты, близость к странам АТР — налицо. Это, в любом случае, не Север России.
Конкуренцию не выдерживаем

— Вы сказали о повышении конкурентоспособности региональных предприятий Колымы. Что имеется в виду?
— А тут всё просто. Бизнес в стране должен работать в равных условиях. И в европейской части РФ, и в Магадане. То же самое нужно сказать и о так называемой стоимости жизни. Но о каком равенстве можно говорить, если энергетические тарифы на Колыме превышают все разумные пределы?
Они у нас значительно выше, чем в подавляющем большинстве других субъектов Федерации. Судите сами, 7 рублей 30 копеек за киловат для промышленных предприятий — куда это годится? И о какой конкурентоспособности в таких условиях можно рассуждать?
В итоге после последнего тарифного повышения в «Сусуманзолото» себестоимость добычи драгметалла увеличилась на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Да и для населения стоимость электроэнергии становится неподъёмной. Вот вам и повышение качества жизни. Сейчас власти вроде бы обещают выравнять тариф уже в начале следующего года.
Но если есть такие планы, зачем было повышать его в июле года текущего? Я этого, честно говоря, понять не могу. Однако в любом случае такая тарифная политика сказывается на конкурентоспособности регионального бизнеса.
Второй значимый момент — выплата работникам колымских предприятий положенных по закону коэффициентов, а также оплата проезда к месту отдыха и обратно. Раньше, как известно, эти расходы брало на себя государство. Не случайно такие льготы до сих пор называются «государственными гарантиями».
Но какие же они государственные, если всё льготирование в производственном секторе переложили на бизнес? Получается, что мы вынуждены нести расходы (и большие расходы!), которые промышленникам на западе России даже не снились. Вот вам ещё один пример, свидетельствующий о нашей неконкурентоспособности.
Но пойдем дальше. Как известно, на Колыме нет железных дорог. Поэтому все грузы из морского порта мы доставляем на свои участки исключительно автомобильным транспортном по федеральной трассе «Колыма». До недавнего времени у нас в этой связи была одна беда — так называемый «налог на ось», о котором ваша газета не раз писала.
Но теперь к этой же проблеме прибавился и весь негатив, связанный с введением системы «Платон». Думаю, не стоит тут что-то объяснять, история эта хорошо известна ещё со времён протестов дальнобойщиков. Скажу лишь, что введённые сборы увеличивают затраты «Сусуманзолото» примерно на 350 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом.
Всё вышеуказанное снижает не только доходы предприятия, но и сказывается на темпах роста заработной платы работников.
— А какова рентабельность в вашей группе?
— Несмотря на рост цены золота, при наличии вышеуказанных дополнительных издержек, наша рентабельность в среднем составляет 12 процентов. Такой уровень рентабельности не может обеспечить расширенное воспроизводство.
— Что делать?
— Во-первых, если государство заинтересовано в развитии Севера, то оно должно компенсировать промышленникам их расходы, связанные с выплатой соответствующих льгот и гарантий людям, работающим и проживающим на Крайнем Севере, то есть государственные гарантии должны стать именно государственными.
Во-вторых, энергетические тарифы должны быть едиными для всех российских регионов.
В-третьих, в условиях транспортной изоляции нашей территории соответствующие дорожные сборы должны быть щадящими. Поскольку никакой другой логистической альтернативы, кроме пользования автомобильными дорогами, у нас нет.
И теперь подытожим. Если не будет этих многочисленных обременений, то у предприятия появятся все возможности для надлежащего развития, повышения зарплат людям, занятым в отрасли, и для решения множества сугубо социальных задач.
Вот вам и ответ на вопрос, как можно закрепить население на Севере.
— Если говорить о ваших дополнительных расходах, то есть ли шанс вернуть деньги за украденное с Колымского аффинажного завода (КАЗ) золото?
— Общая сумма долгов, образовавшихся на КАЗе, превышает 3 миллиарда рублей. И это включая задолженность по зарплате, по налогам и так далее. Мне сложно судить, останется ли что-то после продажи завода на нашу долю или нет. Но ведь дело не только в стоимости того золота, которое мы сдали и которое «испарилось». За этот металл мы ещё будем вынуждены заплатить налог на прибыль.
А это более 200 миллионов рублей. И, несмотря на предоставление отсрочки налогового платежа, эти расходы, в любом случае, лягут на нас.
Поживём — увидим

— Как вы относитесь к льготам, которые предусмотрены форматом особой экономической зоны (ОЭЗ)?
— К льготам, как таковым, я отношусь положительно. Однако опыт работы предприятия в условиях ОЭЗ в Магаданской области показал: на подводные камни можно наткнуться в любой момент, и ещё неизвестно, приобретёшь ли ты от использования льгот или больше потеряешь.
— Объясните, пожалуйста.
— Самый показательный пример — это пример 2013 года, когда Магаданская таможня в судебном порядке лишила нас льгот ОЭЗ, полученных в 2000 году при ввозе на территорию Магаданской области горной техники и горного оборудования. Причём эти техника и оборудование к 2013 году были изношены, имели нулевую балансовую стоимость, а вернуть надо было сумму НДС, начисленную в 2000 году при приобретении новых товаров. А это десятки миллионов рублей. При этом не учитывалось, что льгота для предприятия фактически предоставлялась только в размере 50 процентов суммы НДС, а вторая половина этой суммы была перечислена нами в бюджет особой экономической зоны Магаданской области!
Основанием для такого развития событий стал новый закон «Об особой экономической зоне в Магаданской области». В нём появился запрет на передачу в собственность или во временное пользование техники и оборудования, растаможенных с применением льготного режима, третьим лицам.
Следовательно, передача от ОАО «Сусуманзолото» техники и оборудования его дочерним предприятиям для добычи золота по его лицензиям на основании договоров подряда, заключённых с ними, ранее соответствовала закону об ОЭЗ в Магаданской области, а с принятием новой редакции закона стала незаконной, так как дочерние предприятия являются самостоятельными юридическими лицами. И не имело значения, что ОАО «Сусуманзолото» принадлежат не только переданное им в подряд имущество, другие товарно-материальные ценности, необходимые для добычи золота (так как своего они ничего не имеют), а и добытое ими золото, да и сами предприятия. По сути, для нас создание дочерних юридических лиц — это форма организации процесса добычи золота с точки зрения повышения управляемости компании. А вылилось это в миллионные штрафы и судимость руководителя.
Вот почему я и говорю, что все плюсы, предоставляемые ОЭЗ, — это палка о двух концах. Да, с одной стороны, льготы по налогу на прибыль и НДПИ — это хорошо. С другой — всё зависит от того, как будут трактовать закон те или иные государственные органы. Так что поживём — увидим. Хотя, конечно, мы надеемся на лучшее.
Беседовал Александр МАТВЕЕВ
Источник: nedradv.ru
